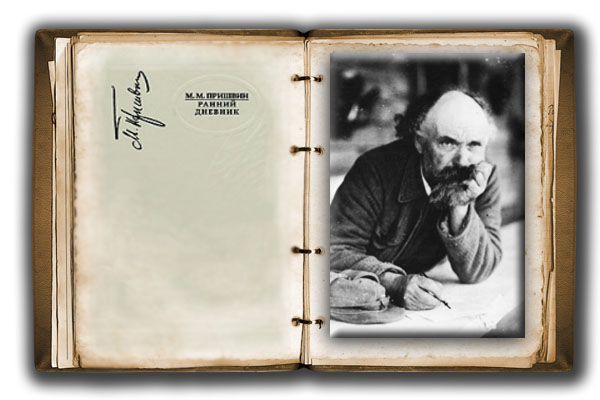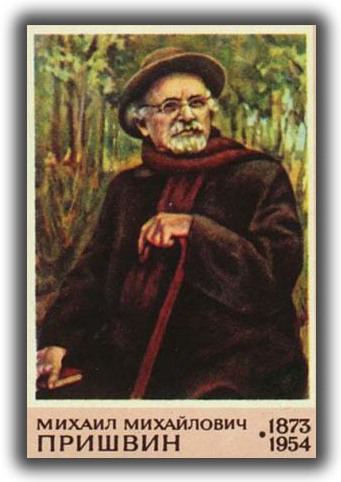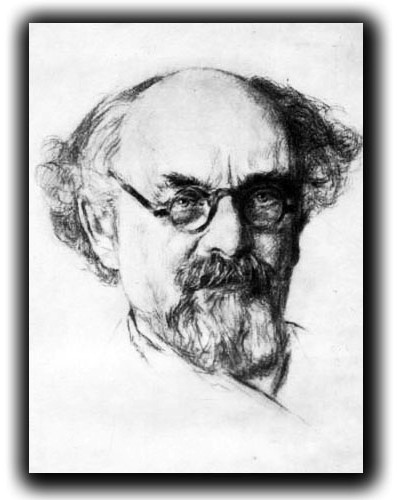| Пятница, 26.04.2024, 00:35 | Главная | Регистрация | Вход | |||||
Пальна - Михайловка |
МЕНЮ САЙТАНаш опросСтатистикаОнлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 ПоискКалендарь
Архив записейДрузья сайта |
 Пришвин Михаил Михайлович
1873 - 1954 Наш знаменитый земляк, писатель Михаил Михайлович Пришвин, родился 23 января (по новому стилю 5 февраля) 1873 года в селе Хрущёво-Лёвшино, которое входило тогда в Соловьевскую волость Елецкого уезда Орловской губернии. Второе название села, видимо по имени церкви, - Борисоглебское. Писатель считал, что купеческое имение было куплено его дедом, преуспевавшим елецким купцом Дмитрием Ивановичем Пришвиным, у разорившегося дворянина Левшина, "кажется, генерала". Сохранившиеся архивные документы уточняют воспоминания. Вот один из них, обнаруженный в Государственном архиве Липецкой области. "Геометрический план дачи Орловской губернии Елецкого уезда части земли села Борисоглебского, Хрущево тож, с поселенною на оной земле деревнею, которая состоит в пользовании временнообязанных крестьян и гвардии прапорщицы Марии Алексеевны Левшиной.
По отношению господина Мирового Посредника первого участка вышеозначенной дачи села Борисоглебского Хрущева тож произведено разверстание земель по натуральному показанию магнитной стрелки в 1863 году в мае месяце состоящим при Орловском губернском правлении по крестьянскому делу землемером Сомовым. В отведенном крестьянском наделе, отделенном одною окружною мерою от прочих смежных земель, по нынешней мере и по исчислению земли состоит пашенной сто тридцать одна десятина двести сажень, под облогом пятьдесят десятин тысяча четыреста сажень, кустарнику по сенокосу четыре десятины тысяча семьсот сажень, под поселением, огородами, гумянниками, конопляниками четыре десятины. Выгону четыре десятины тысяча пятьсот сажень, под улицею, проездом и проселочными дорогами две тысячи пятьсот пятьдесят четыре сажени, под оврагами, водомоинами и половина от верх Ляпин три десятины тысяча восемьсот сорок шесть сажень.
А всего удобной и неудобной земли сто пятьдесят шесть десятин, а за исключением неудобных мест осталось одной удобной земли согласно уставной грамоте в количестве сто пятьдесят десятин". На чертеже стоит штамп: "План сей представлен в Главное выкупное учреждение".
"Хрущево было обычным имением среднего достатка, - вспоминал писатель. Дом, окруженный цветником и фруктовым садом, за ним скотный двор и другие хозяйственные постройки. Из большой передней дома просматривалась анфилада комнат". В августе 1918 года при национализации была составлена опись имения, дающая наглядное представление о нем. Основной дом был деревянным, имел размеры 40 на 21 аршин, (аршин = 0,71 м - В.Г.), отдельно стоящая кирпичная кухня - 12 на 8. Из хозяйственных построек в описи названы: каменная конюшня 40х15 аршин, два амбара 40х9 и 9х6, сарай, кошара, ледник, курник, каменная рига 30х20 аршин. Все строения усадьбы крыты железом. Рано умершего отца он помнил мало. Михаил Дмитриевич Пришвин после семейного раздела получил во владение имение Хрущево и, видимо, немало денег. Он жил по-барски, водил орловских рысаков, брал призы на конных скачках, занимался садоводством и цветами, был страстным охотником. Однажды он так проигрался в карты, что пришлось продать конный завод и заложить имение. Отец не пережил несчастья, стал пить и умер от паралича на почве алкоголя. Уже умирающий он нарисовал на память семилетнему Мише голубых бобров, рисунок, которым мальчик очень гордился.
Мать его, Мария Ивановна Игнатова, родом из города Белева Тульской губернии, из староверческой семьи купцов-мукомолов, несла все заботы о доме. Она родилась в 1842 году, в девятнадцать лет ее выдали замуж. Родила семерых детей, пятеро из которых (четыре сына и дочь: Александр, Николай, Михаил, Сергей и Лидия) выросли. В сорок лет потеряла мужа, оставшись без средств. Дважды заложенное имение Хрущево с полуторастами десятинами земли оказалось последней надеждой. Пришлось "работать на банк". В ту пору Елецкий общественный банк, основанный в 1863 году, располагался в здании нынешней трикотажной фабрики на улице Успенской. Он изображен на одной из старых открыток. Позже здесь располагалась городская управа. В Великую Отечественную в этом здании размещался госпиталь, разрушенный прямым попаданием немецкой бомбы.
Мать сделалась отменной хозяйкой. Вставала чуть свет и до темна хлопотала на скотном дворе, в саду, на огородах, в поле, на току. Резкая и решительная, она отдавала распоряжения, бранилась с мужиками, вела во всем жесткую экономию. И, в конце концов, смогла выкупить имение, и дать своим детям образование. Старший, Александр, стал акцизным чиновником, Николай и Сергей - врачами. "Конечно, как хозяйка, мать была скуповата, - писал Пришвин, - но нам казалось, что плохой кусок доставался не от нее, а от самой курицы, утки, индейки. А мать была героическая здоровая женщина, как бы созданная для трудовой победы над отцовским наследием. Я был любимым сыном своей матери, мне кажется, она передала мне свой завет: продолжать эту борьбу за жизнь". Здесь, в Хрущеве, родилось у мальчика чувство родины. "Конечно, и тело, и душа этой родины была моя мать - высокая, загорелая, как мне казалось, всемогущая женщина... Яблоки в саду, и ягоды, и птицы, и небо, и воля полей, и лесная таинственная тень, и вся природа - это все было в матери. Понимаю теперь в этом, - писал Пришвин впоследствии, - первое прикосновение к моей детской душе чувства родины, потому что потом, взрослым, вынужденный учиться за границей, испытывал то же самое чувство, что называется тоской по родине". Пришвиным не повезло. "Все братья и сестра хотели семьи, болели этим желанием, и никто не создал ее". Жизнь разбросала их по разным городам и все они умерли от тифа: Александр в 1911 году, Николай, Сергей и Лидия - в годы гражданской войны. Большое влияние на будущего писателя оказала его двоюродная сестра Евдокия Николаевна Игнатова, по домашнему прозвищу Дуничка. Она училась во Франции, окончила Сорбонский университет, увлеклась народовольческой идеей и "пошла в народ", стала деревенской учительницей. Евдокия Николаевна на деньги от своего приданого построила школу в деревне Малая Сапрычка Елецкого уезда, посадила вместе с учениками фруктовый сад и сорок лет проучительствовала. За свои человеческие качества: мягкость, нежность, бескорыстие она пользовалась всеобщим уважением в деревне. В Хрущеве Дуничка бывала наездами, но влияние этой милой, доброй и отзывчивой женщины, внешне маленькой, седой и слабой, было в семье огромно. "Была у нее одна весна, - рассказывает М.М Пришвин в своем дневнике, - приехал экзаменатор и похвалил ее, и она, не смея думать о многом, любила этого экзаменатора и каждую весну дожидалась, что его назначат и он приедет, спрашивала с трепетом: "Кого теперь экзаменатором?" Этим экзаменатором был их сосед по имению, богатый помещик, один из образованнейших людей в округе Михаил Михайлович Стахович. Семья Стаховичей владела имением Пальна-Михайловка в четырнадцати верстах от Хрущева. В детстве Дуничка была самым близким для Пришвина человеком. "Двоюродная сестра Дуничка учит любить человека (Некрасовым), - запишет он в летописи своей жизни, - двоюродная сестра Маша прельщает неземным (Лермонтов)". Сказочной Марьей Моревной назовет ее писатель. Неоценимой помощницей Марии Ивановны Пришвиной, доверенным лицом во всех ее делах была няня Евдокия Андриановна. Она ведала домашними делами, растила и школила четырех сорванцов-мальчишек; рассказывала им сказки, а то строго наказывала вплоть до крапивы. Всех она искренне любила и Михаил Михайлович добрые чувства к ней сохранил на всю жизнь. Семья зналась с богатейшими помещиками уезда Стаховичами, которые были гостями у Пришвиных. "Я вспомнил соседей Стаховичей: у нас сто десятин, у них четырнадцать тысяч. И мать моя прекрасно уживалась с ними…"
Из своего детства Михаилу Пришвину особо запомнились два человека - бедный крестьянин по прозвищу Гусек и сельский священник отец Афанасий. Гусек любил и понимал зверей, знал разные травы, но главной страстью Гуська были птицы и прежде всего перепела. Он был частью самой природы, жил радостно, нуждой не тяготился. От Гуська Пришвин научился многим охотничьим хитростям и стал понимать голоса природы.
"Вот человек, которого я люблю. Может быть от того я люблю его, что вижу в нем себя, как в зеркале, вижу свое лучшее, то, чем я хотел бы быть, что навсегда потеряно". "Самый крестьянский поп" - говорили деревенские мужики про отца Афанасия. Он был главной фигурой в Хрущеве, видел нужды и горести людей, старался разделить их, помочь, утешить. В его словах была "та обнаженная правда, которая вселяла мужество, давала силы все сообща перенести, и жить дальше, и не сломиться".
Среди елецких корней Пришвина была еще одна ветвь - известные купцы Горшковы. Из этого рода была бабушка Михаила Михайловича со стороны отца - Марья Петровна. "Все даровитые, - писал о Горшковых Пришвин, - закончились даровитым чудаком Михаилом Николаевичем, художником". В экспозиции елецкой картинной галереи выставлено живописное полотно М.Н. Горшкова "Натурщик". За эту учебную работу елецкий художник получил отличную оценку, а писавший рядом с ним Илья Репин только четверку. М.М. Пришвин так рассказывал о своем родственнике: "В Ельце на Манежной улице есть дом братьев Горшковых, большой двухэтажный каменный дом с колоннами. В нижнем этаже жил хозяин дома старик Петр Николаевич Горшков, а верх снимала моя мать.
В глубине двора этого дома с выходом в сад стояла баня, и в ней жил второй владелец каменного дома с колоннами - художник Михаил Николаевич Горшков. Дом был большой, и, наверное, художник мог найти себе место, но жить в бане, окруженной деревьями, было одной из его причуд. Второй причудой художника было питаться одной гречневой кашей и никого не затруднять ее приготовлением: был он холост и не держал прислуги. Третьей причудой его было вечное странствование на своих на двоих. Ранней весной он уходил и возвращался осенью, когда поспевали яблоки. Мы, ребята, приходили к нему за яблочками, ели у него их целыми днями, и он не уставал беседовать с нами, маленькими, как со взрослыми. Запомнилось, когда ребята спросили художника, почему он не пишет краской небо, тот ответил: "Посмотрите, какое небо, и вот я его краской". Илья Репин дружил с Михаилом Горшковым, приезжал к нему в Елец, гостил в его баньке. Они вдвоем о чем-то спорили. Как-то, много лет спустя, М.М. Пришвин говорил с Репиным о Горшкове: "Талантливый он был художник?" - спросил я. Он немного подумал, поморщился. "Нет! - сказал он решительно. Потом еще подумал, вдруг весь встрепенулся, сразу посветлел и еще решительней сказал: - Да, но он был гениальный!.."
Памятник Пришвину М.М. в сквере школы П-Михайловки
Писатель М. М. Пришвин прост и полон, как сама природа, И именно как природа действует на наше сердце: так бывает при жизни в лесу — вроде уже знаешь каждое дерево, каждый поворот реки, каждое пятно света в листве, а взглянешь наутро, и все целостно и ново и словно не тронуто зрением, как в первый раз. Эта полнота впечатления оттого, что писатель сам не мог наглядеться на мир, и каждый день видел его новым и понимал всем сердцем, и каждый день жизни проводил в природе с таким вниманием к ней, как будто она и есть вся тайна и полнота жизни. В предвоенном дневнике писателя сохранилась запись выступления перед школьниками — там есть удивительное место, точно определяющее отличие Пришвина от тех, кто занимался природой и писал о ней: «Теперь я убедился, что моя природа мало имеет общего с той природой, которая находится в руках биологов. Они учат, что если вы узнали воробья, так, значит, и всех воробьев. А я — что все воробьи разные и каждый из вас может открыть своего воробья. Моя наука есть наука родственного внимания своеобразию каждого существа. Эта наука привела меня к искусству слов, а искусство слова к родине. И я понял, что природа есть родина». В этом он не только от биологов отличался. В сущности, и писатели обычно видят «воробья» не именно вот этого, который теперь сидит на ветке и которому можно, если захочешь, и имя дать, как в сказке, а вообще воробья; Пришвин же каждую птицу и каждый куст писал как единственный, как писал бы реального человека, так что мы могли подойти и узнать и этот куст, и эту птицу и не спутать их с другими. А самое глубокое в этом признании, конечно, то, что «природа есть родина». На первый и взгляд тут как будто и нет ничего нового — кто же не знает, что чувство родины острее всего пробуждается в одиночестве перед красотой милой природы? Но одно дело умом знать и повторять за другими и совсем иное — увидеть существо пришвинского открытия и принять его в себя как свое. Эта простая мысль по сути своей глубока и очень значительна и каждым человеком постигается самостоятельно, а душевно слепому человеку может так и не открыться в течение всей жизни. Родина, говорит художник, творится в ежедневном постижении природы, чувство Родины растет в человеке в течение всей жизни с каждым новым простым открытием. И чем более человек открывается и видит в природе, тем более он сам становится Родиной, народом, тем духом земли, который питает следующие поколения. Это особенно важно помнить в наши дни общей борьбы за сохранение родной земли. Сейчас стали видны горькие результаты расхождения человека и природы, о которых русская литература задумалась еще в начале века. В 1900 году земляк и сверстник Пришвина И. А. Бунин писал в «Вестнике воспитания»: «Современное культурное общество — особенно в больших городах — слишком отдалилось от могущественного и благодетельного влияния природы... городская молодежь по большей части мало знакома с самыми обычными явлениями природы: она постепенно утрачивает даже самый интерес к природе, научается мыслить не живыми образами, а отвлеченными символами». Бунин больше говорит об эстетическом чувстве природы, но ведь настоящая дорога к пониманию родного мира и защите его как раз с чувства прекрасного и начинается, и тут Бунин прав: «...хорошая картина, хорошее описание природы не только возбуждают интерес к природе, не только закрепляют в уме и чувстве ее образы, но помогают отчетливее и яснее усвоить ее характерные черты, ее душу... Ясно, следовательно, какую воспитательную роль могут играть поэтические описания природы, описания тех художников слова, у которых произведения дышат живой жизнью и правдой». Пришвин чувствовал эту «живую жизнь и правду» острее других, потому что для него каждый муравейник — общество и каждая молодая сосна — собеседник со своим голосом. И когда человек, по словам Пришвина, так «выглядывает из себя», для него «открывается в душе родник радости жизни чистой, святой и страстное желание прийти к людям, не понимающим этого, и открыть им непостижимые сокровища жизни, скрытые от них суетой, пустяками».
Для каждого читателя в творчестве Пришвина открывается свое окошко, и каждый видит по своей душе и по своему возрасту. Понимание может расти вместе с читателем и год от года существенно изменяться. Для меня главное видится вот в этом «роднике радости». И как бывает в лесу, когда набредешь на родник, его хочется прибрать и обустроить, чтобы он был виднее идущему следом, так хочется остановиться у этой дорогой пришвинской темы и сделать ее очевиднее и необходимее, потому что, как мы удалились от природы, так, словно в укор, отдалились и от радости. И не делать тут разницы между взрослыми и детьми, потому что дети — это зеркало взрослых. Легко быть радостным, когда судьба балует тебя и все складывается самым желанным образом, но такая радость обычно недолговечна и эгоистична — она не узнается другими как своя и ничем не помогает другому человеку. Пришвин с детства растит в себе свет, часто вопреки обстоятельствам, что так чисто, обаятельно и подробно написано в автобиографическом романе «Кащеева цепь». Мальчик на наших глазах пробирается к своей душе, преодолевая все обычные детские препятствия — молодое тщеславие, кажущееся непонимание других и детскую обидчивость, когда думаешь, что все стрелы пущены в тебя. Лет с восьми он уже чувствовал в душе смутную борьбу тех начал, которые обычно определяют и жизнь взрослого человека, если он не поддается удобному автоматизму бездумного существования, а доискивается именно своего места в этой жизни: мальчик непременно хочет быть не таким, как все (это как раз общее у всех детей, которых томит их требовательное «я»), но вместе с этим — что уже черта редкая, обнаруживающая глубокую и беспокойную душу,— он хочет остаться со всеми. Взрослые люди знают, какой ценой достается такая диалектика. Быть не таким, как все, и одновременно оставаться со всеми, то есть быть как все очень трудно — какая-то одна часть «формулы» непременно хочет восторжествовать и подчинить человека. Вот борьбе этих начал и посвящена «Кащеева цепь». Когда человек с малолетства носит в себе «какое-то свое лицо, напрягая все силы на его охрану» и одновременно пряча его и тоскуя по возможности «открыть это свое лицо», можно заранее сказать, что жизнь такого человека будет непроста.
Учеба мальчика в Елецкой гимназии (а Курымушка в «Кащеевой цепи» — это прототип самого Пришвина, о чем писатель не раз говорил) окажется, отмечена двумя событиями, которые во многом определят судьбу будущего писателя,— это детский «побег в Азию» и исключение из гимназии. Обстоятельства читатель сам увидит в книге, а мы скажем только о самых существенных последствиях этих событий. Побег в Азию пробудил неутолимую тягу к странствиям, охоте, постижению неведомого в родном, а исключение выработало силу сопротивления неудаче и научило зоркости к разнообразию человеческих отношений. Виновником этих событий в жизни мальчика стал учитель географии Елецкой гимназии, впоследствии популярный русский публицист и философ В. В. Розанов. И когда судьба, спустя много лет сведет их, пожилых и известных, Пришвин запишет в дневнике, что общего в них стало больше, и это общее в том, что от острого чувства идейной пустоты, которая была так свойственна концу минувшего и началу нынешнего века, они оба нашли спасение в природе. А если перевести на одного Пришвина — от тяжести исключения (а исключили его с «волчьим билетом» без права поступления в другие учебные заведения) его спасло... «бегство в Азию». Потом в его жизни будет много разного — учеба в Сибири, институт и Риге (избавление от «волчьего билета» — отдельная история), революционная работа в марксистских кружках, одиночная камера в митавской тюрьме, высылка в родной Елец... Внешне, как это ни странно прозвучит, это типичная жизнь честного молодого человека тех лет (институт, революционная деятельность, тюрьма), но внутренне она очень отличается прежде всего напряженным вниманием Пришвина к своему призванию. Там же, в гимназии,— в бегстве и исключении — столкнувшиеся «хочется» (как требование своего лица) и «надо» (как необходимое условие, чтобы «быть со всеми») продолжали в нем неустанную борьбу, и он бился над тем, чтобы примирить их, найти такое свое место в порядке жизни, где бы, что «хочется», то было бы и тем, что «надо». В нем всегда потаенно искал выхода «родник радости». Время было полно страданий, и радость, как он говорил, казалась «не современной», и, чтобы не задеть своих товарищей по школе и по марксистской работе, он не то чтобы скрывал постоянное чувство радости, а как бы приглушал его, не уставая искать такого выхода для себя и других, чтобы тяжесть жизни преображалась в свет. Он хорошо записал в дневнике: «Среди напряженных волевых революционеров, рассудительных и дельных, я похож был на Петю Ростова». Ведь и Петя видел тяжесть народной войны и все страдания вокруг, но душа просила радости и победы. Но Петя был мальчик — это понятно, а Пришвин уже изведал тюрьму, бесправие, уже успел поучиться в Германии и по возвращении много, тяжело и беспорядочно поработать в частных и государственных хозяйствах, развивая свои агрономические знания, выпустил даже специальные работы (его книга «Картофель в огородной культуре» долго была авторитетна), но при этом все равно ни на миг не терял в себе мальчика, который хочет примирить желание и долг, оправдать жизнь радостью. Если задуматься, то с этой ищущей выхода радостью жить гораздо труднее, потому что всякое страдание жизни ранит вдвойне. Страдание для него есть та самая «кащеева цепь», которая держит человека в плену, не давая ему вырваться на свободу. И когда в конце первого звена романа на Курымушку «смотрят все отцы от Адама с новой, и вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кащееву цепь?!», то это надо понимать и как обязательство мальчика перед своей личностью и своим только предчувствуемым долгом, но одновременно думается, и как призыв к каждому взрослому не забывать в себе ребенка, потому что «золотое детство — есть тайный замысел разбить необходимость привычки».
Дом-музей Пришвина М.М. Дунино (Московская область)
Те, кто прочитает «Кащееву цепь» полностью, увидят, как возбуждённо беспокойна, как тяжела была для Пришвина первая половина жизни, которая ушла, как он говорил, на «усвоение чужого ума», когда он надеялся победить жизнь знанием, найти удовлетворение в серьезной науке. Неизвестно, сколько бы продолжались поиски себя (такие метания могут затянуться на целую жизнь), если бы однажды, ожидая поезд на каком-то полустанке, он, чтобы скоротать время, не надумал написать о том, какая прекрасная и несчастливая любовь постигла его во время учебы в Германии. Пришвин считал потом этот полустанок своей писательской колыбелью. Ему внезапно, как подарок, открылась освободительная сила слова. Но это со стороны «как подарок», а на самом-то деле сосредоточенная его душа шла к этому неуклонно. Он понял, что желание сказать другому о том, что пережито тобой, и о том, как выйти из тупика, может принести освобождение и говорящему и слушающему. Он писал о своем, а думал о трудной жизни других людей, о том, как их освободить от «кащеевой цепи» привычки и смирения перед жизнью, и это его как будто совсем личное давнее «хочу», словно само собой, претворялось в общее «надо». Лучше и глубже других понимавшая творчество Пришвина жена писателя В. Д. Пришвина очень хорошо определила существо его взгляда на открывшуюся литературную дорогу: «С первого своего рассказа он понимает писательство как дар и долг, как нравственное поручение связать в узел оборванные концы неудавшихся существований окружающих его людей, найти оправдание и смысл их жизни». С этой поры и начинается его путь к другому, к другу, как он неизменно называет читателя. Он был сыном своего времени, и по его книгам дореволюционных лет мы можем восстановить круг исканий русской интеллигенции и сложный путь общественной мысли той поры. Детское бегство в Азию приведет писателя на Север, и он напишет замечательные книги «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком». Он поедет записывать обычаи, былины и сказки, выполнять как будто академическое поручение, а увидит своё — как человек преодолевает личную отдельность, чтобы быть со всеми, как радость делает человека свободным. Это хорошо видно в счастливом «Колобке», где при всей тяжести и часто грубости жизни нет, кажется, ни одного несчастного человека. Все живут обычной, часто невыносимо трудной жизнью, но как будто в сказке, потому что природа входит в обиход людей так тесно, так близко, что они и сами становятся ее частью; и море, ветер, рыба, птицы шумят, плывут и летят вместе с людьми. В этом секрет и отдельность Пришвина — найти небывалое в обыденной жизни. Книжки потому и стали сразу так любимы, а писатель известен, что он возвращал читателю привычную жизнь обновленной, «умытой», умной и неожиданной. Для этого он ничего не приукрашивал, и жизнь оставалась груба и опасна, бедна и жестока, какова она всегда была на Севере, но в ней словно проступал порядок и направление, будто приотворялась дверь и входили день и свет, с которыми все обретало значение и смысл. Он умел непонятным образом убрать частности, оставляя недвижное «зерно времени», то в жизни, что больше принадлежит вечности, которая при этом оказывалась домашней, будничной, родной, так что скоро нам начинает казаться, будто мы знали эту жизнь всегда и сами были обитателями Олонецкого края и ходили по Лапландии и плавали по Белому морю. Чем он этого добивается, так прямо и не скажешь. Может быть, отличной речью, точно обдуманной стилистикой, которая и совсем проста, но вместе с тем как будто немного затруднена, так что при чтении мы все время делаем небольшое усилие, чтобы фраза улеглась в сознании вся. А пока она там укладывается, пока ты совершаешь это усилие полного понимания, ты и входишь в мир как равный и не видишь, где остановился писатель и где ты додумал сказанное своим сердцем.
 Рабочий стол Пришвина М.М. Дунино (Московская область)
Лучшее тому подтверждение маленькая повесть «Черный араб» о дорогой с детства, на этот раз настоящей Азии, где в пустыне под низкими звездами «только дикие кони перебегают от оазиса к оазису». Потом мы находим в его дневнике, что после этой поездки «мог бы написать о Средней Азии десять таких книг», как «В краю непуганых птиц», но все научные материалы «пожертвовал для коротенькой поэмы в два печатных листа». Поэма вышла в ноябрьской книжке «Русской мысли» за 1910 год. Казалось, ее никто не заметит, потому что в те дни Россия прощалась с Л. Н. Толстым (он умер 7 ноября). Но М. Горький, будучи тогда на Капри, писал 9 ноября одному из своих друзей: «Вчера ночью взял книжку Р(усской) М(ысли) и на полчаса забылся в глубоком восхищении,— то же, думаю, будет и с Вами, когда Вы прочтете превосходную вещь Пришвина «Черный араб». Вот как надо писать путевое, мимоидущее. Этот Пришвин вообще — талант». Теперь Горький будет встречать с любопытством каждую пришвинскую книгу, и находить лучшие слова, и схватывать в книгах самое существенное зорким умом талантливого читателя и глубоко заинтересованного в судьбах русской литературы человека. Он следит за рождением первых звеньев «Кащеевой цепи» и сразу отмечает главное: «Курымушка — удивительная личность» (и слово «личность» подчеркивает, так что и мы уже будем потом читать эти главы не с обычным умилением перед мыслью ребенка, а с серьезным вниманием к рождению Человека). Появится вторая часть, и Горький опять не забудет сказать в письме: «Вчера с восхищением прочитал «Любовь»... Чудеснейший Вы художник». Когда же выйдут «Родники Берендея», Горький напишет, кажется, прямо на полях книги, пока не остыло впечатление: «Светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь. «И когда я стал — мир пошел» — это так хорошо, что хочется кричать: ура, вот оно русское искусство!» «Светлейшая душа» — это все тот же «родник радости». А между тем революционная буря прошла по судьбе Пришвина особенно тяжело. Жизнь его в эту пору была отмечена несчетными утратами (умерли все братья и сестра), сам он странствовал уже поневоле, чтобы не умереть с голоду, надолго забывая в себе писателя, работая на пропитание. Несмотря на это, Пришвин сохранил в себе лучшее, и не только сохранил, но и прибавил. А помогало ему старое правило — забывать о себе для другого — и родственное внимание ко всему живому, отчего и человек открывался как необыкновенный. Это была их общая с Горьким черта. Ведь и тот не напрасно именно в письме Пришвину пишет: «...вокруг нас нет ничего удивительнее и непостижимее нас самих. Утверждаю, что мир будет счастлив и велик лишь с того дня, когда весь человек его удивится себе самому». Это по-прежнему, несмотря на простоту мысли, очень ново и по-прежнему остается только заветной мечтой. Как новы и с каждым днем как будто все более насущны мысли самого Пришвина о человеке в природе. Вероятно, эта новизна происходит из-за того, что писатель выстрадал каждую свою мысль долгой и сложной жизнью в природе, в постоянном диалоге с ней. Пришвин не зря, как заклинание, твердил о необходимости сохранить в себе ребенка — это главное условие его пути к единству. Только в детстве мир полон, и дерево равноправно человеку, и все люди кажутся родными друг другу, и природа не пейзаж, а живое целое. Однажды, остро почувствовав это (села на окно синица, и он вдруг внезапно с пронзительной ясностью понял, что они связаны друг с другом, словно это знакомая и родная ему синица). Пришвин уже не забывал чувства родства, а дисциплина наблюдения проявляющаяся у ведущего дневник человека, только помогала ему подтвердить и углубить это чувство. Дневник был ежедневным благодарным усилием навстречу миру, способом соучастия в мире, ежедневным ответом на голос природы. Каждой записью он говорил: «Слышу и понимаю твою речь вот так!» Вместе с другой постоянной учебой — у русской литературы и родного языка («я шел путем всех наших крупнейших писателей, шел странником в русском народе, прислушиваясь к его говору») - учеба у природы помогала ему выполнять свою детскую клятву об освобождении людей от «кащеевой цепи».
 Пришвин любил заниматься фотографией.
Ну и, может быть, еще одно надо непременно помянуть — он был целомудренным художником. Слово это стало, к несчастью, почти устаревшим, но в жизни Пришвина значило очень много. Горький не зря отмечал его главу «Любовь» в «Кащеевой цепи». Это чувство было так важно для духовного здоровья художника, и понимал он его так серьезно и глубоко, ища редкой в мире, но необходимой целостной мудрости (это и есть целомудрие) в отношениях с другим человеком, что не могло не оставить следа в его творчестве. Во всех его лучших книгах бьется вопрос о Марье Моревне, о согласии и чистоте, которые есть в природе, а значит, должны быть и в человеке. Он много думал об этом в «Кащеевой цепи», но глубже и полнее всего выразил в замечательной книге «Жень-шень», которую, как и все книги Пришвина, нельзя пересказать, а можно только удивиться, как умел он слышать живое и как, потеряв реальную любовь, сумел восстановить свою душу в любви к Родине, к природе, найдя в ней ответ и ободрение. И опять лучше всех и уместнее кажутся слова Горького: «... это ощущение земли как своей плоти, удивительно внятно звучит для меня в книгах Ваших, муж и сын великой матери». Пришвин знал цену этой своей книге. Он назвал ее — «песнь песней», и она поила его своей силой, словно и сама была целительна, как всемогущий жень-шень. Впоследствии в годы войны, когда много переменится и в его личной жизни, в эвакуации, когда он пишет в военные журналы, ходит по деревням, фотографирует женщин и детей, чтобы они могли послать снимки мужьям на фронт, выслушивает горе человеческое и помогает людям чем может, он часто будет возвращаться к мыслям и темам этой книги, и любовь, как преображающая сила, станет основной мыслью «Повести нашего времени». Величавый покой интонации, народное достоинство перед бедой, когда «жизнь разорвана» и дело художника «справедливостью связать времена», наполняет эту книгу светом и силой, и любовь из «частного» чувства делается чувством народно-важным, как источник единства и победы.
Не зря именно в это время родилась его философская формула, которая стала и творческим принципом: пишу, следовательно, люблю, а люблю, следовательно, существую. Только, если в первые годы творчества это была любовь более к природе, как к живому и неотделимому от человека миру (она достигла в «Женьшене» наибольшей полноты, так что Пришвин и сам определял эту книгу как страстный призыв друга, столь сильный, что он уже не мог быть не услышан), то в «Повести нашего времени» это была любовь к самому человеку. Могущественное чувство радости, причина которого в существовании другого человека, еще не так распространено, как нам кажется. Оно трудно, как все хорошее, оно берет исток в том же «роднике радости» и делает «Повесть», несмотря на драматизм материала, счастливой и своим счастьем лучше всего убеждающей в великой силе народа. Академик А. А. Ухтомский, оставивший необычайно глубокие дневники, записал по поводу воздействия книг Пришвина: «По форме писательства он, несомненно, классик, из плеяды Тургенева и Аксакова, но что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель нового в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом». Самое дорогое тут то, что писатель не только в себе открывает эту сосредоточенность на другом, но в самом народе, отчего лучшие его книги читаются нами как собственный дневник или как личное к нам обращение, где «друг мой» воспринимается не как прием, а именно как оклик твоего «я». Такая личностность происходит из глубокой искренности художника, который не из праздного любопытства оглядывает мир, а чтобы найти выход своей душе и через себя — другому. Другой же причиной успеха является то, что каждого человека и каждый предмет он с первых лет пишет как единственный, никогда не впадая в соблазн типизации. «Не из книг, друзья мои, беру слова,— писал он в «Повести нашего времени»,— а как голыши собираю с дороги и точу их собственным опытом жизни, и если мне скажут теперь, что неверно о чем-нибудь высказываю, то я беру своего судью за рукав и привожу к тому, о ком говорил: «Вот он». А если это вещь, то укажу и на вещь: «Вот она лежит». Так точно и о всем живом я, как словесный хозяин, могу каждого привести на место и указать: «Вот оно растет, так оно цветет, здесь умирает».
 А.Н. Толстой стоит слева, слева сидит М.М. Пришвин.
|
||||
 |  | |||||
| Copyright BVPalych © 2024 | Создать бесплатный сайт с uCoz |